
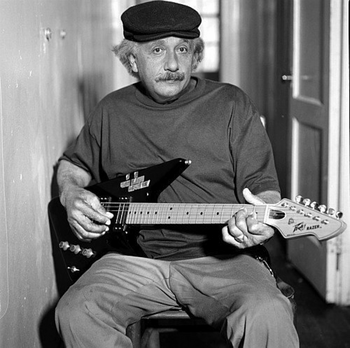
Abstract
Поводом к написанию данного трактата послужило одно из замечаний Б. Рассела, касающееся философской системы Д. Юма как скептического – в смысле способностей человека к познанию внешней его «умственному миру» реальности – концепта, которому в философии до сих пор не обнаруживается надлежащего – в смысле опровержения агностицизма Юма – ответа. Как бы в отклик на это замечание, в трактате и сопоставляются системы Д. Юма и Дж. Беркли, представленные как, в некотором смысле, один философский концепт (последняя – как фактический исток и своеобразное «заострение» системы Юма), с одной стороны, и общегносеологические положения специальной теории относительности А. Эйнштейна, являющейся, на взгляд автора, одним из впечатляющих примеров, подтверждающих человеческие познавательные способности, с другой стороны, в качестве непротиворечащих друг другу философских систем. Теории Беркли и Юма в этом сопоставлении выступают, при этом, как своеобразное подспорье для усвоения фундаментального гносеологического смысла и так называемых «парадоксов» теории Эйнштейна, теория относительности же, в свою очередь, оборачивается подтверждением представлений Юма и Беркли на происхождение целостного человеческого знания (в особенности имея в виду их позицию в отношении опытного происхождения представлений о связях созерцаемых явлений), одновременно самим своим существованием показывая, что взгляд на происхождение человеческого знания об этих связях, как на «привычки ума», совсем не влечёт за собой скептических выводов.
Вступление
Глава о Дэвиде Юме в учебнике Бертрана Рассела «История западной философии» начинается такими словами: «Взгляды Юма представляют в некотором смысле тупик в развитии философии; в развитии его взглядов дальше идти невозможно. С тех пор, как он написал свои работы, опровергать его стало любимым занятием метафизиков. Со своей стороны, я в их опровержениях не нашёл ничего убедительного, но тем не менее не могу не надеяться, что можно открыть что-нибудь менее скептическое, чем система Юма» (1).
Последнее предложение этого высказывания выдаёт весьма противоречивое отношение его автора к указанной «системе». Очевидно, что Расселу импонирует общая направленность философии Юма, которая, как и всякая скептическая философия, противопоставляет себя догматизму, характеризующему «метафизиков», неспособных привести, на его взгляд, «ничего убедительного» в опровержение указанной теории. Но теория Юма, с другой стороны, представляется ему препятствием на пути в целом гносеологии как области знания, имеющей предметом – человеческие способности к познанию объективной реальности; чуть далее Рассел даже выразится о ней, как – «вызове философам, на который, по моему мнению, ещё не было дано надлежащего ответа» (2). Отсюда должно следовать, что если он и «надеется, что можно открыть что-нибудь менее скептическое», то желательно, чтобы такое открытие не явилось бы непременным опровержением умозаключений Юма, отличающихся, надо отметить, безукоризненной строгостью и, пожалуй, бесспорностью выводов. Можно даже предположить, что само стремление – «опровергнуть» – способно в данном случае свидетельствовать об опровергающем, как о «догматике и метафизике».
Словом, высказывание Рассела представляет собой пожелание такого «открытия», которое могло бы преодолеть агностицизм ассоционистской теории Юма, но не являлось бы при этом отрицанием её; то есть оно должно каким-то образом оказаться продолжением взглядов Юма, но как раз такой возможности Рассел и не видит, называя их «тупиком в развитии философии». «Открытие» это, следовательно, должно представлять собой сугубо философскую теорию, потому что естествознание, образовавшись позже как самостоятельная отрасль знания (до последнего времени авангардом в нём считалась физика – бывшая «натуральная философия»), не особенно оглядываясь на указанный «тупик», сделало вполне впечатляющие успехи, попутно преодолев и те гносеологические трудности (суть их мы чуть ниже коротко очертим), на который вполне, как выяснилось, резонно указывал в своё время Юм; и вопрос, значит, на который нужно «дать надлежащий ответ», обернулся вопросом – «внутрифилософским», своего рода – «делом чести». А раз так, философии, видимо, проще всего взять на вооружение какую-либо естественнонаучную теорию, опора на которую могла бы позволить ей «выйти из тупика» (который, по сути, тупиком-то не является) и, интерпретировав её (естественнонаучной теории) наиболее общие – гносеологические аспекты, попытаться с опорой на них выполнить вышеуказанные условия. На роль такой, с позволения сказать, «вспомогательной теории» вполне подходит известная статья 1905 года «К электродинамике движущихся тел» Альберта Эйнштейна (имеется в виду лишь её «Кинематическая часть»). К ней мы и обратимся, очертив прежде общие контуры и суть интересующего нас «тупика» и наметив, так сказать, стратегически возможные пути достойного – не отрицая положений «системы» Юма, не «замалчивая» указаний и иных скептически настроенных философов – выхода из него.
I
Надо заметить, что «гносеологические трудности» начинаются ровно с того момента, как философ предполагает отправным пунктом познания человеком внешней ему реальности – чувственность. У этого источника скепсиса, проистекающего из известного факта взаимного определения открывающихся человеку в чувственном созерцании многих качеств – «мягкое», допустим, для нас есть постольку, поскольку есть «твёрдое», «тёмное» есть постольку, поскольку есть «светлое» и т.д. – очень богатая родословная, ведущая историю от учений греческих софистов, далее – одно из основных «Пирроновых положений», воспроизведённое Секстом Эмпириком, позже не иначе как «божью кару» воспринимали то же самое схоласты, и – вплоть до взглядов эмпириокритицистов и наукообразной психологической «теории относительности ощущений» Мюллера-Гельмгольца. Эту «трудность» мы, конечно, будем иметь в виду и непременно вспомним, вернувшись к ней ближе к концу нашего изложения. Но сейчас нас интересуют общие исходные положения системы Юма, изложенной им в «Трактате о человеческой природе, или Попытке применить основанный на опыте метод к моральным предметам», где Юм, не столько, видимо, имея целью избежать скептицизма, сколько – «нагнетая» его, согласен даже, упоминая эту «проблему чувственности», и не учитывать её (и без этого, дескать, есть проблема у оптимистов):
«Что касается тех впечатлений, источником которых являются чувства (senses), то их последняя причина, по моему мнению, совершенно необъяснима для человеческого разума; и всегда останется невозможным решить с достоверностью, происходят ли эти впечатления непосредственно от объекта, порождаются ли они творческой силой ума или же обязаны своим происхождением творцу нашего бытия. Впрочем, вопрос этот вовсе и не важен для нашей настоящей цели…» (3).
Отметим, что из двух вариантов происхождения «чувственных впечатлений» – «непосредственно от объекта» или «порождение творческой силой ума» (третий вариант – «от создателя» – мы опускаем, поскольку в рамках современного философского трактата, я полагаю, он не может рассматриваться и должен быть оставлен теоретикам-теологам) – наиболее «неудобным» для нас, скрывающим в себе гносеологическую трудность, является второй вариант; поскольку же мы условились не сторониться трудностей, его мы и будем, проигнорировав снисходительность Юма, иметь в виду – на будущее. Что касается «настоящей цели» исследования Юма, то его предметом выступило не происхождение собственно чувственных впечатлений, а происхождение человеческих представлений о правилах их связи – о принципах связи «впечатлений ума», а также «идей», происходящих от непосредственных впечатлений, и связи «сложных идей», уже являющихся представлением о связи впечатлений или идей.
И вот. Если естествоиспытатель принимает «по умолчанию», так сказать, первый вариант происхождения данных чувственного созерцания – «непосредственно от объекта» (а он иначе поступить и не может, ибо, оглядывайся естествознание на «философские трудности» и дожидайся, когда они будут разрешены, оно и вовсе бы замерло в стагнации), то есть исходит из того, что он оперирует не искажёнными «творческой силой его ума» данными, то он (естествоиспытатель) тем не менее всё-таки связывает в уме наблюдаемые явления – проявляет, значит, такого рода умственную активность, – а уже далее, обобщая повторяющиеся сопряжения тех или иных наблюдаемых явлений, индуктивным путём выводит и общие принципы этих связей, называя их «законами природы». Естествоиспытателю, следовательно – так ему кажется, во всяком случае, – силою ума удаётся расширить первоначальный чувственный опыт, выйти за его пределы и, на основании выведенных таким образом общих принципов, то есть – «познав» их, оказаться способным предвосхищать «явления природы».
Юм же, однако, внимательно исследовав различные «сложные идеи», которые продуцируются человеческим умом и служат как раз-таки для связи непосредственных, «чувственных впечатлений» (и далее – «простых идей», от них происходящих и т.д.), установил, во-первых, что единственной «идеей-связью», которая может быть предполагаема в качестве принципа, расширяющего чувственный опыт – когда от одного непосредственно созерцаемого явления при посредстве этой «идеи-связи» возможно заключение к другому явлению, не данному в этот момент в опыте, – может быть только идея причинности, но и, во-вторых, что эта «сложная идея», которой не соответствует никакого чувственного впечатления, – «отношение причинности» – сама и происходит не откуда-нибудь, но из опыта же: наблюдая не единожды то, как такое-то «действие» следует за такой-то «причиной», человек и «закрепляет» в уме идею связи одного явления (как «причины») с другим (как «следствием» первого), приобретённую таким «наблюдательным» образом, то есть – пассивно приобретённую. Понятно, что допустить, будто пассивно обретённая в чувственном опыте идея связи явлений способна при её будущем «активном применении» распространять свою силу и значимость за пределы этого же опыта, способна каким-то образом выходить за его границы – невозможно. Две другие основополагающие «идеи-связи» из тех трех, что, по мнению Юма, прежде всего обретаются таким «опытно-естественным» путём (общий термин – «естественные отношения»): отношения сходства и смежности, из коих (всех трёх) после и происходит – при активной роли воображения – всё бесконечное разнообразие «идей-связей», продуцируемых человеческим умом для сопряжения в те или иные целостности данного в созерцании качественного многообразия, эти две (последние) «сложные идеи», будь они строго отделены при рассмотрении от идеи причинности и друг от друга, и вовсе не покидают наличный чувственный опыт.
Таким образом, все общие принципы, выводимые естествоиспытателем из наблюдаемых им явлений, их взаимосвязей и взаимозависимостей, изначально основываются на простых пассивно обретённых в предшествующем опыте «привычках» его же собственного ума, диктующих ему привычные – своего рода: «так, а не иначе» – правила сопряжения явлений («впечатлений» или «идей»): «Мы имеем здесь дело с родом притяжения, действия которого окажутся в умственном мире столь же необычными, как в мире природы, и проявляются в первом в столь же многочисленных и разнообразных формах, как и во втором» (4). Эти правила связи явлений не могут, следовательно, распространять свою значимость за границы «умственного мира»; собственно говоря, они – отношения как род связи – и есть те привычные правила, на основании которых человеческим умом и образуется Мир как целостность («мир впечатлений и идей»), Мир человеческого бытия, обособленный – со своими правилами сопряжения «идей» и «впечатлений», вытекающих из привычных «родов притяжения» их – от «мира природы». На последний же, на Природу, мы можем, конечно, произвольно и по желанию экстраполировать порождённые в нашем чувственном опыте принципы сопряжения явлений, наши «привычки ума», но не факт, что такая экстраполяция не представляет собой навязывание Природе правил нашего («умственного») Мира, правил, по которым мы образуем («заселяем», как выражался Юм) наш Мир.
В целом же, вывод Юма такой: «Попробуем сосредоточить своё внимание на чём-то вне нас, насколько это возможно; попробуем унестись к небесам, или к крайним пределам вселенной; в действительности мы ни на шаг не выходим за пределы себя и не можем представить себе какое-нибудь существование, помимо тех восприятий, которые проявились в рамках этого узкого кругозора. Кругозор же этот – вселенная, создаваемая воображением, и у нас нет идей, помимо тех, которые здесь порождены» (5).
II
Теперь мы попробуем определиться с, так сказать, «стратегическим направлением» возможного преодоления «системы» Юма. Направлений здесь, как кажется, есть два. Вообще-то, мы остановимся на втором, но коротко (чтобы была понятна разница) рассмотрим и первое, на мой взгляд, бесперспективное в принципе.
Наиболее известная попытка преодоления юмовской концепции исключительно опытного происхождения знания знакома нам как «Критика чистого разума» Иммануила Канта; видимо, его (во всяком случае, далеко не в последнюю очередь – его) и имеет в виду цитируемый во вступлении Рассел под «метафизиками всех времён», потерпевшими, по его мнению, неудачу в деле опровержения юмовского ассоционизма. Кант, отдавая должное безукоризненности рассуждений Юма и видя бесперспективность их непосредственного опровержения, попытался аргументацию Юма, своего рода, нейтрализовать, опираясь на широко распространённую в то время концепцию-гипотезу об обладании человеком «чистым знанием».
Всякое отношение как проявление умственной активности, нацеленной на связь явлений по определённым правилам (в том числе, отношение причинности как принцип сопряжения явлений – на этой «сложной идее» в конце концов и «замыкались» в те времена все проблемы), можно только тогда предположить – способным к расширению чувственного опыта, выходу за его пределы, если это правило связи само не заимствовано из опыта, но, напротив, – обусловливает, направляет этот опыт. То есть в самой природе человеческого ума должно быть уже заложено: а) что открывающееся ему при посредстве чувств множество явлений-качеств вообще подлежит связыванию (тому или иному) в целостности; б) что такое-то качество следует связывать «скорее с тем, чем с другим» качеством (и далее – такую-то связь качеств, то есть целостный «феномен», «скорее с той, чем с другой» связью качеств), человек, значит, должен обладать a priori и правилами связи явлений. Во исполнение пункта (а) Кант постулировал «трансцендентальное единство самосознания» – доставленное уму чувствами «многообразное созерцания» неизбежно будет в уме так или иначе связано; во исполнение же пункта (б) были постулированы «чистые рассудочные понятия» как априорные правила связи явлений (и даже систематизированы в знаменитую «таблицу категорий»), – то есть весь процесс связи явлений с самого начала оказывался обусловленным ничем иным, как «творческой силой ума» – он есть самопроизвольная, «спонтанная» активность духа.
Но у такого подхода есть, так сказать, «обратное требование». Если сама связь явлений и её правило имеют исключительно умственное происхождение, происхождение «из духа», то и многие качества, данные в «чувственном созерцании» – то, что подлежит связыванию, – не могут «происходить непосредственно от объекта»; во всяком случае, «многообразное созерцания» должно, во-первых, хоть в какой-то мере определяться каким-то условием умственного (точнее, духовного) происхождения (акт связи и то, что подлежит этой связи, должны быть одной природы происхождения); и при этом – чтобы, во-вторых, ещё и иметь в виду внешний по отношению к чувственности, но каким-то образом затрагивающий её, «предмет х», то есть предмет – внешний «чувственно-умственному миру». Таким обусловливающим саму возможность чувственного созерцания априорным знанием («способностью субъекта подвергаться внешним воздействиям») стали у Канта «чистые формы чувственности пространство и время». Но и мало того, это первоначальное условие возможности открытия человеку качественного многообразия, в-третьих, ни в коем случае не должно быть «творческой силой ума», ему никоим образом не должна быть свойственна активность, «спонтанность»; последняя должна обнаруживаться – только на стадии связи уже-открывшихся многих качеств, а иначе: образуется тот самый «античный скептический тупик» – обретаемые представления о всяких данных в созерцании качествах взаимообусловлены представлениями о других качествах, и, следовательно, ни о каком познании человеком внешней «умственному миру» реальности вообще не может идти речь. Такой набор требований. Но Кант и обдумывал «Критику чистого разума» 12 (!) лет.
С одной стороны, кантовские «априорные чистые формы чувственности» как будто бы удовлетворяют всем требованиям («a priori», в том числе, как раз не предполагает субъективную активность), но, с другой стороны, выходит, что у человеческой чувственности два субъективные условия: «a priori пространство и время» и «единство самосознания» (это – если ещё к последнему присовокупить «чистые понятия», которые суть функция «приведения многообразного созерцания к единству апперцепции», то есть считать их – одним условием)…
Вернее так. Сначала Кант обнаружил было, что это всё есть одно неразрывное условие: «Если бы всякое представление было чуждо другим представлениям, как бы изолированно и обособленно от них, то никогда не возникло бы ничего похожего на знание, так как знание есть целое, состоящее из сопоставимых и связанных между собой представлений. Поэтому если я приписываю чувству способность обозрения (Sinopsis), так как оно в своих созерцаниях содержит многообразие, то этой способности обозрения всегда соответствует синтез, и восприимчивость делает возможным знание, только если она связана со спонтанностью» (6), – так он напишет в первом варианте «Аналитики рассудочных понятий раздел второй». То есть он отдавал себе отчёт, что если не открылись в созерцании по крайней мере два качества какого-либо явления, то связывать в целостность-феномен нечего, но и обратно, если какое-либо качество не явилось в непременной связи с другим качеством (в составе целостности), то и не может быть никакого знания об этом – «одиноко явившемся» качестве; он обнаружил, что так называемый «синтез схватывания», который уже отнесён им к активности, спонтанности духа («не всегда осознаваемой активности») и который как раз суть функция связи, невозможно отделить от «формальных условий чувственности», выполняющих, казалось бы, лишь функцию разделения на «многие» качества.
Но после он спохватился, раздел переписал, но как возможна (а это и не возможно, ибо дух неделим) такая дифференциация – чистые формы суть функция разделения, а чистые рассудочные понятия суть функция приведения обретённого множества к единству самосознания, – объяснить так и не смог, в чём и признался: «Однако от одного обстоятельства я не мог всё же отвлечься в вышеприведённом доказательстве, а именно от того, что многообразное для созерцания должно быть дано еще до синтеза рассудка и независимо от этого синтеза (курсив мой – Ю.П.); но как – это остается здесь неопределенным» (7). (Вообще-то, это логическое затруднение, которое Кант сам себе и создал, имело далеко идущие последствия и привело в конечном итоге к тому, что его «Критика способности эстетического суждения» опровергала положения его же «Критики чистого разума»; но здесь у нас нет возможности это обсудить.)
Но даже если мы и выпустим из внимания указанные выше трудности, возникшие у Канта в связи с его «обходным маневром» – попыткой противопоставить аргументам Юма концепцию «чистого знания», – то всё равно, с необходимостью возникшее по ходу его требование «чистых форм чувственности» как условия обретения человеческим умом многих качеств, никак не преодолевало юмовский разрыв между «умственным миром» и «миром природы», но лишь подчеркнуло его. Отношение (в том числе, и отношение причинности) как род связи, характерный для «умственного мира», как принцип («принцип-привычка» ли, или «априорное правило», – это даже всё равно), на основе которого ум связывает принадлежащие ему же «идеи», остался всё тем же принципом, посредством которого образуется Мир, и который произвольно может быть лишь навязан Природе – что Кант и вынужден был признать, оговаривая, что «законы явлений в природе должны сообразовываться с рассудком и его формой» (8).
А если не должны?…
Итак, «стратегический подход», связанный с концепцией «чистого знания», нам не подходит – с одной стороны, он какой-то «половинчатый», с другой стороны, вряд ли здесь кто-либо сможет придумать нечто, превосходящее самого Канта (к тому же, с начала ХХ-го века и физика в лице Альберта Эйнштейна, Макса Планка, Луи де Бройля, Вернера Гейзенберга, Нильса Бора … и т. д. отказалась от идеи «чистой субъективности»).
Перейдём ко второму варианту, который будет связан не с «лобовым» опровержением системы Юма или «обходной» нейтрализацией его аргументов, но, напротив даже, с предельным заострением её положений; к варианту, предполагающему наше «двойное отступление»: во-первых, признаём аргументы и выводы Юма правильными, а во-вторых, отступаем ещё и исторически – лет на тридцать назад, по сравнению с годом выхода в свет юмовского трактата.
III
Система Дэвида Юма, если сравнить её с системой Джорджа Беркли, различается с последней (если воспользоваться характеристикой критерия, применяемой самим же Юмом) не «в природе», но лишь «в степени» – она тщательнее проработана; а ещё она более, как бы сказать, «беспринципна». Чтобы, видимо, особенно не нервировать учёное сообщество, Юм не склонен подвергать гласному сомнению существование какой-то другой реальности – «мира природы», отличной от реальности, образованной духом – «умственного мира». Но он, как мы помним, в то же время очень строго очерчивает и границу, прямо указывая, что его интерес и содержание его труда не простирается далее предметов, которые человек встречает в своем реальном, скажем так, «чувственно-умственном» существовании, то есть – не простирается за пределы «человеческой реальности», как это стали называть двумя столетиями позже экзистенциалисты, Юм же обозначает это термином «умственный мир» (а мы условимся при необходимости писать просто Мир, а вместо «мир природы» – Природа, – с прописных букв). И вводя термин «впечатление ума», он укажет в специальной сноске, что «под термином впечатление я разумею не способ порождения в душе живых восприятий, но исключительно сами эти восприятия, для которых не существует отдельного имени ни в английском, ни в каком-либо другом известном мне языке» (9); – как это «впечатление» появилось в уме, то есть, ему и не важно, есть ли у этого «впечатления» причины его происхождения вне ума, его «истинное бытие», недоступное непосредственному созерцанию, ему не интересно, его интересует только то, что уже – в уме.
А в уме уже есть, допустим, впечатление «красное» или впечатление «длинное»; а когда мы обозначили эти впечатления такими словами, то мы уже, естественно, образовали в уме идею «красного» и идею «длинного»; последние есть «простые идеи» как копии (они лишь не столь отчётливы, как впечатления), происходящие от соответствующих им впечатлений.
Беркли же такого различия не делает и всякое воспринимаемое человеком качество называет «идеей» – он ведь с полным недоумением относится к локковскому различию «первичных» и «вторичных качеств»: никакого такого различия нет, как это совершенно очевидно для Беркли, и все качества суть явления, то есть – «идеи» (в уме). И если бы нам понадобилось вдруг объединить юмовские «впечатление ума» и «простая идея» одним термином, то это вполне мог бы быть термин – «чувственная идея» (чувственная идея красного или чувственная идея длинного), который вполне, мне кажется, удовлетворил бы и Беркли.
Также, в соответствии с системой Юма, в уме обнаруживаются и «сложные идеи». «Сложная идея» есть такая идея, которой, в отличие от «простой идеи», не соответствует какое-либо чувственное впечатление, она не происходит от какого-то чувственного впечатления как более отчётливого её прообраза (но мы, пожалуй, могли бы сказать, что «сложная идея» – это такая идея, которая не происходит от «чувственной идеи»). «Сложные идеи» продуцируются умом как раз для того, чтобы связывать: или «впечатления», или «идеи» («простые» или «сложные» же), или, допустим, «чувственные идеи» (это, впрочем, в одном термине – «впечатления ума» и «простые идеи»). Как раз такие «сложные идеи», своего рода, «идеи-связи» Юм и определяет как: отношения. Например, понятие «яблоко» (а «понятие» и «идея» – синонимы, практически) уже и есть ничто иное, как «сложная идея» или отношение: это есть умственная связь по принципу смежности (одно из основных указываемых Юмом отношений) чувственных идей красноты, округлости, сочности и т. д.
О такого рода «сложных идеях» (не пользуясь, конечно, самим термином, наряду с термином «простая идея») Беркли, имея в виду тот же самый смысл, и напишет: «Так как все отношения предполагают деятельность духа, то, строго говоря, следует говорить, что мы имеем не идею, а, скорее, понятия об отношениях и установившихся порядках между вещами» (10). Юм же, в свою очередь, определил такого рода «идеи-связи», «естественным образом» образующиеся в уме (которые, как нам обычно кажется, мы «уже имеем»), как «естественные отношения»: «качество, посредством которого две идеи связываются в воображении, причём одна из них естественно вызывает за собой другую» (11). Что же касается вопроса, происходят ли «естественные отношения» из опыта или нет? – то совершенно очевидно следующее. Некто, например, лишь однажды видевший живую лошадь, пасущуюся мирно на лугу в утреннем тумане и услышавший – в другой раз – доносящийся до него через открытое окно приближающийся звук галопа по брусчатке, человек этот никогда, ни при каких обстоятельствах, ни при посредстве какого бы то ни было предполагаемого «априорного умения» не сможет связать этот звонкий приближающийся цокот галопа с той лошадью – в тумане; что это существо способно производить такой звук – подобная связь никогда не может возникнуть в человеческой голове без того, чтобы он хотя бы раз увидел (и одновременно услышал) лошадь, но – скачущую. Примерно таким образом, строго различая данные различных чувств (в частности и в основном – зрения и осязания) и исследуя основания, на которых они связываются, Беркли в «Опыте новой теории зрения» вполне успешно доказывает, что связи качеств («идей»), данных человеку при посредстве различных чувств, представления о порядках этих связей могут иметь происхождение исключительно в опыте. Что на это можно возразить? Содержание этого трактата Беркли до сих пор никто, кажется, даже и не пытался опровергнуть; Кант, например, его просто «замалчивает» (скорее, наоборот, можно бы позволить себе заметить, что, допустим, «условные рефлексы» Павлова и есть ничто иное, как связи именно такого рода и, следовательно, могут быть предложены в качестве подтверждения дальновидности и правоты Беркли, во всяком случае – в этой части). Как раз эту берклианскую идею подхватил и успешно развил Юм.
И наконец, Юм предложил различать виды «сложных идей» (или отношений) как характерного для «умственного мира» рода связи: есть «естественные отношения» и есть «философские отношения». Последние были определены им как «то особое обстоятельство, в связи с которым мы находим нужным сравнивать две идеи даже при их произвольном соединении в воображении» (12). В качестве «естественных отношений» он описывает отношения сходства, смежности и причинности, особенно акцентируя внимание на последнем и, в частности, на том, что отношение причинности может реализовываться в уме и как «естественное отношение», и как «философское». В качестве же источников для множества возможных «философских отношений» он указывает: отношение тожества, отношения пространства и времени, отношение числа, отношение степени и отношение противоположности. Но строгое разделение его «таблицы отношений» является, скорее, методическим разделением. Эта способность отношений как рода связи идей в уме – проявляться то «естественным образом», то «философским» – касается не только отношения причинности. Когда я, допустим, приходя утром на службу, нахожу свой стол «тем же самым столом, что и вчера», то здесь отношение тождества обнаруживает себя как «естественное отношение», но хорошо известно, что в иных случаях – это одно из самых что ни на есть «философских отношений»; или же, например, отношение смежности всегда есть либо «смежность во времени», либо «смежность в пространстве», таким образом, и отношения пространства и времени само собой попадают в категорию «естественных отношений», и в то же время – нет, пожалуй, так сказать, «более философских» отношений, нежели они. Речь, следовательно, идёт о, своего рода, степени сложности сложных идей. По существу, «естественное отношение» есть активность духа (спонтанное продуцирование умом «привычной», приобретённой ранее из опыта идеи связи явлений), непосредственно сопровождающая чувственное созерцание; большая же степень абстракции («удаления» от предметов созерцания; abstractio – «удаление») той же «идеи без соответствующего ей впечатления» – когда она уже довлеет «тому особому обстоятельству, при котором мы находим нужным произвольное сравнение идей» – и делает эту сложную идею отношением «философским».
Так вот, против чрезмерного уж абстрагирования философов, когда отношение как «сложная идея» представляет собой уже такой степени «удаление», что трудно сразу разобрать, какие идеи она собой связывает (или уже – совсем не разобрать), называя подобное – «абстрактные идеи» или даже «наиболее абстрактные идеи», и выступил своей философией Беркли. Например, идея «материальная субстанция» есть в полном смысле «философское отношение» как в соответствии с определением Юма – «идея, которой не соответствует никаких впечатлений ума», соединяющая «при особом обстоятельстве» весьма большое множество «идей» (идея «материальная субстанция», по сути, есть своеобразное воплощение юмовского «отношения тождества», пожалуй, лишь названного другим словом), так и по-берклиевски – «наиболее абстрактная идея», против присутствия каковых идей в натуральной философии, считая их источниками атеизма и скептицизма, и возражал Беркли. И если мы проследим содержание всех (их немного) его сочинений, то мы и обнаружим в них критику «вредности» всех тех, по Беркли, «наиболее абстрактных идей», что и будут позже перечислены в упоминаемом уже «списке» отношений, к которым Юму удалось «свести» все отношения; «наиболее абстрактными идеями» Беркли и назовёт: пространство и время, тождество, число, причинность и т.д. – но тогда, когда они обретают самодовлеющий характер, становятся, как можно было бы, пожалуй, выразиться, «наиболее философскими отношениями» – «фикциями воображения», в соответствии уже с характеристикой Юма.
Какое же отличие есть во взглядах Беркли и Юма (во всяком случае – в их текстах)? А отличие только одно и есть: Юм предусмотрительно уклонился от обострения вопроса о существовании «мира природы», отличного от «умственного мира», описывая лишь то, как ум, посредством отношений – «сложных идей», связывающих «чувственные идеи», образует Мир (по ходу этого, правда, как будто бы становилось понятно, что никакие интеллектуальные ухищрения не позволяют человеку распространить значимость умозаключений за пределы этого же Мира, который он сам и образует из совокупности чувственных данных, а Природа как отличная от Мира реальность, если она и есть, то все равно – непостижима), Беркли же принципиально стал настаивать, что никакой иной реальности, кроме реальности «умственного мира», и вовсе нет. Вернее сказать, он просто поставил знак равенства между Миром и Природой. И наиболее выпукло это выразилось в известном отрицании «материальной субстанции». Ведь под «материальной субстанцией» понималась некая «неизменная сущность» вещи (или вещей); из неё происходят «акциденции» или «скрытые качества», а уже их, своего рода, эквивалентом являются те самые качества – «тёмное», «быстрое», «гладкое», «кислое» и т.д., – открывающиеся нам в «чувственном созерцании» (в общем смысле). Беркли же учил, что за этими созерцаемыми нами качествами никаких «оккультных качеств» не стоит и, следовательно, нет и «материальной субстанции», и их (являющихся качеств) «esse est percipi». Все эти качества и их – по определённым правилам – связи, и вся совокупность связей и качеств как Мир (он же есть и Природа) в целом есть продукт духа. Такой философский концепт принято называть «солипсизм». Если, следовательно, добавить к «солипсизму» Беркли предположение о существовании «материальной субстанции» (или, если в нашем написании, Природы, отличной от Мира), то получим в точности «агностицизм» Юма – а Беркли и предостерегал, что вера в эту «материальную субстанцию» доведёт до скептицизма; если же от «ассоционизма» Юма отнять предположение о «мире природы», отличном от «чувственно-умственного мира», то получаем в точности философский концепт Беркли и никакого скептицизма.
Итак. Настоящим предлагается принять вышеизложенные аспекты взглядов Беркли и Юма на происхождение человеческого знания, что называется, «за основу», а вернее – за аксиому; что фактически значит – признать за ними правоту (это касается, конечно же, и понимания отношений как «привычек ума»). То есть, конечно, во-первых, принять за аксиому – в рамках дальнейшего развития предлагаемого вниманию трактата, и, во-вторых, «аксиома» совсем не то же самое, что «догма», от догмы аксиома ведь отличается тем, что не требует безапелляционного принятия её на веру, но лишь предлагается в качестве исходного допущения для предстоящих рассуждений, приводящих к тем или иным выводам; и уже в зависимости от большей или меньшей результативности и привлекательности этих самых выводов (так сказать, «обратной силой») предлагается с этой аксиомой согласиться или нет.
В качестве же «результативности» и «привлекательности» здесь можно предложить следующее: при полном сохранении концепта Беркли (опровергнуть его все равно невозможно), в соответствии с которым Мир есть всецело продукт деятельности человеческого «духа» (таким словом раньше именовали то, что сейчас принято называть «сознание»), реальность, происходящая исключительно из ума и в уме лишь существующая, сохранить же и Природу как отличную от Мира реальность, с «чувственно-умственным Миром» непосредственно не пересекающуюся, но, тем не менее, познаваемую. Получается даже, что нужно придумать, как бы сказать, нечто среднее между «для-нас-существование» и «для-нас-несуществование» (такая вот вырисовывается «задача», в деле решения которой я, надо признаться, как раз и полагаюсь-то лишь на помощь со стороны Эйнштейна).
В связи с вышеизложенным. Отношение мы тогда станем считать родом связи идей или впечатлений ума, свойственным «умственному миру», который и не следует путать с «миром природы» (из чего может последовать, что «делать посредством отношений Мир», по существу «быть-в-Мире» и «познавать Природу» – разные роды деятельности). Что же характеризует этот род связи? Одно можно отметить наверняка: Беркли в первой же своей работе говорит о «мгновенности суждений» (13), касающихся сцепления идей; мгновенность, следовательно, есть характерная черта такого рода связей, что, конечно же, должно быть вполне понятно и знакомо всякому, поскольку отношение есть «сложная идея», а скорости человеческой мысли мы, попросту говоря, не перестаём удивляться; точнее, у неё вообще нет никакой «скорости» – она именно «мгновенна».
И всё же попытаемся, наконец, коснуться некоторых самых общих вопросов физики (тех вопросов, которые я, имея в виду явный недостаток специального образования – оно не выходит за пределы курса физики средней школы, могу позволить себе коснуться); для начала – из перспективы воззрений на неё (тогда она именовалась «натуральная философия») и претензий к ней Джорджа Беркли.
IV
Трактат Беркли «О движении, или о принципе и природе движения и о причине сообщения движения», как считается, был написан против Ньютона. Всё же заметим, что это так – лишь отчасти. Ещё в «Трактате о принципах человеческого знания» читаем: «Лучшей грамматикой … должен быть, конечно, признан трактат по механике, доказанной и применённой к природе философом соседней нации, которому удивляется весь мир» (14), – и позже Беркли этого своего мнения, в целом, не отменял. Однако: «Во введении к этому внушающему справедливое удивление трактату время, пространство и движение делятся на абсолютные и относительные, истинные и кажущиеся, математические и обычные (vulgar)…» (15). Присутствие этих-то – «абсолютных» или «математических» пространства, времени и движения во введении «Математических начал натуральной философии» Ньютона и вызывает у Беркли недоумение в том смысле, что на всё дальнейшее содержание ньютоновского трактата, на все его, с точки зрения Беркли, замечательные и правильные выводы факт присутствия во введении этих «наиболее абстрактных идей» никакого влияния не оказывает; постулируемые (по мнению Беркли, непонятно – зачем?) Ньютоном абсолютные пространство, время и движение не играют далее в его же трактате никакой роли, никакие суждения и выводы на них не основываются и, мало того, к действительному смыслу этих понятий привести не могут. Предметом же сочинения Ньютона выступает то, что он определяет как «относительное движение». Задержим внимание на этом предмете.
Ещё в «Принципах человеческого знания» же Беркли напишет: «Не нахожу, будто движение может быть иным, кроме относительного; так что для представления движения следует представить по меньшей мере два тела, расстояние между которыми или относительное положение которых изменяется. … Это кажется мне весьма очевидным, поскольку идея, которую я имею о движении, необходимо должна включать в себя отношение. … Проверяя свои собственные понятия, мы найдём, я полагаю, что какое бы то ни было абсолютное движение, о котором мы можем составить себе идею, есть в конце концов не что иное, как определённое таким образом относительное движение. Ибо, как уже было замечено, абсолютное движение с исключением из него всякого внешнего отношения немыслимо» (16).
Действительно, движение, как таковое, суть отношение – свойственный уму род связи явлений; это есть продуцируемая в уме сложная идея, которой «не соответствует никаких впечатлений» (разве не это позволило Зенону вполне успешно – в поддержку учения Парменида – придумать апории о том, что «движения нет»?) и которая выполняет функцию сцепления сложных же, но, так сказать, низшего порядка сложности идей – «тело» (идея же «тело» есть, в свою очередь, связь некоторых «впечатлений ума» – непосредственно воспринимаемых: непроницаемость, цвет и т.д., – либо «простых идей», выраженных в словах «непроницаемость», «цвет» и т.д.). И, как и всякая идея, идея «движение» порождается «духом»; имеется в виду то есть «относительное движение» – а никакого другого движения, в том числе с точки зрения Ньютона, человек не знает и представить себе не может.
Однако, – против этого Беркли и возражает категорически – многие современные ему философы (представители «натуральной философии») склонны усматривать происхождение, причину движения вне духа, чему Беркли и удивляется чрезвычайно, ибо что можно предположить причиной идеи, кроме духа? и чем может быть таковая причина? В таком случае придётся предположить некую «материальную субстанцию» (заметим, опять же – «наиболее абстрактную идею») для того, чтобы предположить в качестве её акциденции идею же «сила» или идею «импульс» как субъект действия, «скрытое качество», производящее движение как своё следствие (нужно, так сказать, «материализовать идеи»: идею «движение», идею «тело», идею «импульс» – своего рода, «эффект Калиостро»). В специальном примечании Беркли цитирует и наиболее показательное – в своей такой наивности – высказывание Торичелли: «Сила и импульс есть такие тонкие абстракции, такие неуловимые квинтэсенции, что они не могут быть замкнуты ни в каком сосуде, кроме сокровенной субстанции природных тел» (17). Но при таком обороте дела уже и «движением» следует считать совсем не то последовательное изменение расположения тел относительно друг друга, что все (и Ньютон) под этим понимают; начинает обнаруживаться совсем какое-то эзотерическое движение: «Есть такие [люди], которые различают передвижение (motio) и движение (motus), рассматривая передвижение как элемент настоящего момента в движении. Более того, они хотели бы рассматривать скорость, влечение, силу и импульс как множество вещей, различающихся по сущности, каждая из которых представляется разуму через свою собственную абстрактную идею, отличную от всех остальных» (18), – и здесь ещё могут открыться неизвестно какие «сложности»…
Возникает вопрос: что толкает людей на измышление подобных «скрытых качеств», «материальной субстанции» и других «наиболее абстрактных идей»? Каким бы вульгарным на первый взгляд не показался такой ответ, но он, видимо, состоит в том, что, не измышляй они в противопоставление «видимости» (в самом общем смысле – «являющемуся», к чему следует отнести и открывающуюся в созерцании людям идею движения, которая есть сопряжение явлений по определённому принципу) нечто «скрытое» от чувств, от непосредственного восприятия, нечто, по выражению Беркли, «как бы сокрытое за сценой, тайным образом производящее явления, видимые в театре мира», то философам-натуралистам, попросту говоря, заняться будет нечем. Ведь «натуральная философия» (естествознание, если иначе) обретает смысл своего существования среди людей, по сути обретает себя в, своего рода, «поле», определяемом координатами «видимое» и «скрытое», где последнее выступает координатой направления вектора развития, нацеленного от «видимого» в направлении всё более полного и достоверного постижения «скрытой природы вещей»; в этом продвижении – от «видимого» к «скрытому» – и есть, так сказать, смысл бытия естествознания. В качестве же «скрытого» здесь, как мы видели, выступают гипотезы (метафизические), предположения неких «скрытых сущностей» движения, которые есть опять же идеи, вызванные к жизни ничем иным как воображением.
Что же выступает поводом для подобной «игры воображения», и чем оно по своей сути является? Вообще-то, есть более обобщённое определение подобного «заблуждения философов», данное ему в своё время Фридрихом Ницше, – «ложное удвоение одного явления» («удваивающимся» явлением здесь как раз выступает идея «движение»; источником же столь распространённого заблуждения он считал субъект-предикатные грамматические правила языков, называя грамматику «народной метафизикой» и замечая: «Народ говорит – «молния сверкает», – но сверкание и есть молния»). Более, пожалуй, локальное, применимое в большей степени к естественнонаучной сфере (но, в принципе, подобное же – «языковое») объяснение даёт этому и Беркли: «Многие люди ошибаются насчёт общих и абстрактных терминов. Они замечают их ценность в доказательстве, но не понимают их значения. Частично термины … вымышлены философами ради дидактических целей не потому, что они соответствуют природе вещей – тех вещей, которые на самом деле единичны и конкретны, – но потому, что они оказались полезными для сохранения выработанных мнений с помощью введения понятий или по крайней мере общих утверждений» (19).
Вот Декарт ввёл понятие импульса, но он вовсе не предполагал под этим термином «скрытый субъект» движения, но – то же самое движение, только – его «количество»: «произведение размеров тела на скорость» (позже Ньютон уточнит – произведение массы на скорость). Или, допустим, выражение «сила инерции» хоть и состоит из подлежащего и сказуемого, но из этого не следует, что «сила» здесь есть субъект действия, а «движение по инерции» – действие как предикат, к ней относящийся. «Ньютон признаёт этот факт, когда говорит, что сила инерции есть то же самое, что и импульс» (20), – с удовлетворением отмечает Беркли позицию Ньютона, вовсе не склонного «ложно удваивать» движение. Впрочем, отказ от поисков скрытых причин движения в телах заключён уже в принципе инерции Галилея-Декарта (он же – первый закон Ньютона): «Наиболее учёные философы нашего века склоняются к незыблемому принципу, что тело сохраняет своё данное состояние, будь то состояние покоя или равномерного движения по прямой, и, до тех пор пока оно не подвержено внешним воздействиям, не изменяет этого состояния» (21).
Но особенно примечателен подмеченный Беркли факт, что присутствие измышленных гипотез о «скрытых сущностях» в теориях некоторых изучающих принципы движения философов в конечном счёте никак не влияет на результаты их изысканий – ни положительно не влияет, ни отрицательно: «Ньютон говорит, что действующая сила состоит только в действии и является воздействием на тело, изменяющим его состояние, и эта сила после воздействия не сохраняется. Торичелли утверждает, что определённое множество или совокупность сил, действующих при толчке, воспринимается движущимся телом и, оставаясь в нём, составляет его стремление. … Хотя кажется, что Ньютон и Торичелли не согласны друг с другом, каждый из них выдвигает последовательный взгляд, и предмет достаточно хорошо объясняется в обоих случаях» (22). Объяснение же этому довольно простое и заключается, видимо, в следующем: в конечном счёте, как первый, так и второй – соотнося, связывая идеи (а отношение есть тот род связи, который сопрягает исключительно идеи в уме – абстрактные ли, или «чувственные идеи»), изначально обретённые при посредстве чувств и позже приобретшие вид математических объектов, индуктивно сводят к общему правилу, устанавливающему то, каким образом и какие идеи следует связывать. Эти выведенные правила, в свою очередь, выражаются математическим же языком, но, как прозорливо замечает Беркли, «математические объекты по самой своей природе не имеют неизменной сущности: они зависят от понятий того, кто их определяет» (23). «Силы» же у Торичелли как акциденция материальной субстанции тела и якобы «скрыто действующая» причина движения и сообщения движения (у Ньютона они – количественная характеристика «напора тела») играют лишь, так сказать, морально стимулирующую роль, не оказывая никакого практического влияния на выводы (как и сами, впрочем, ни из чего не выводятся).
Цель сочинений Беркли и состояла в разъяснении необходимости освобождения естествознания (буквально даже – в резонанс с известным девизом Ньютона: «гипотез не выдвигаю») от подобных измышлений – измышлений практически бесполезных «абстрактных идей» и «оккультных качеств»: «Если мы поступим так, все знаменитые теоремы механической философии, благодаря которым раскрываются тайны природы и благодаря которым мировая система поддаётся человеческим расчётам, останутся нетронутыми, а изучение движения будет освобождено от тысячи мелочей, тонкостей и абстрактных идей» (24). Но, согласитесь, кроме практических целей, человеку свойственны ещё и иные – моральные устремления, и они не всегда могут, как этого хотелось бы Беркли, исчерпываться стремлением постижения «промысла божьего» (некоторые даже думают, что его и вовсе нет, а иные утверждают, что знают это). И уж тем более, это близко и понятно всякому философствующему человеку, ибо, как заметил однажды Анри Бергсон, «философия не связана строгостью, поскольку никогда не предполагается никакого её практического применения»… Однако, вернёмся к естествознанию.
Если же мы теперь, вместе с Беркли, внимательнее взглянем на теорию Ньютона – а он, как известно, категорически отрицал (на словах, во всяком случае) какие бы то ни было «скрытые качества» или «гипотезы», – то мы должны будем отметить, что и в ней всё же присутствует гипотеза, скажем так, «скрытого влечения неживых тел»; такое «скрытое свойство» у него (доподлинно неизвестно, была ли эта сложная идея заимствована им у Кеплера и Гука или самому ему пришла в голову) – притяжение. Ньютон, правда, и сам признаёт в «Оптике», что притяжение – гипотеза, поскольку никакой причины этого влечения тел друг к другу он назвать не может, оно не выведено из явлений. Беркли же замечает, что и выводы Ньютона о «небесной механике» происходят вовсе не из идеи о притяжении: «Так как философ, мысли которого обнимают более обширный круг природы, наблюдал известное сходство между небесными и земными явлениями, доказывающее, что бесчисленные тела имеют стремление взаимно сближаться, то он обозначает их общим термином притяжение, сводя их тем самым к тому, что, по его мнению, даёт о них правильный отчёт. … Если поэтому мы всмотримся ближе в различие, существующее между естествоиспытателями и прочими людьми относительно знания ими явлений природы, то мы найдём, что это различие заключается не в более точном знании действующей причины, производящей явление, … а только в большей широте понимания, при помощи которого были открыты в произведениях природы сходство, гармония и согласие и объяснены отдельные явления, т. е. сведены к общим правилам» (25). (Для сравнения: человек, изучающий, допустим, несколько твёрдых минералов в микроскоп, всякий раз наблюдает кристаллические решётки, из чего и, сопрягая отношением причинности кристаллическую структуру, видимую в окуляр, и осязаемую твёрдость исследуемого предмета, может даже заключить, что ему теперь стала известна некая «скрытая сущность» твёрдости, тогда как он вовсе не покидал пределов «видимости» – он лишь расширил наблюдаемый им круг явлений и связал их привычным образом; а от «прочих людей» его отличает не знание «скрытой природы» твёрдых минералов, а наличие у него микроскопа, точнее, видимо, возникшее когда-то желание – непременно заглянуть в его окуляр, «объять мыслью более обширный круг явлений».)
И поскольку идея о притяжении – в рамках обобщённых Ньютоном принципов взаимно-относительного движения и перемещения небесных и земных предметов – никакого практического применения не обнаруживает, не могли бы мы отсюда (по аналогии с «силой» как скрытым субъектом действия – у Торичелли) заключить, что она, будучи «скрытой от чувств», выполняет роль морального фактора, так сказать, стимулирующего «тягу познания»? – Видимо, все-таки нет. Во-первых, эта идея имеет отношение лишь к третьей главе его «Математических начал натуральной философии», а во-вторых, она присутствует в его теории как нечто, своего рода, «уже решённое» («Довольно того, что оно существует», – напишет Ньютон в «Началах»), то есть – уже не «скрытое». Но вот «за» ней (поскольку, по мнению Ньютона, притяжение не может передаваться через пустоту) «скрывается» абсолютное пространство (которое, естественно, нельзя отделить от абсолютного времени и абсолютного движения, поскольку последнее есть последовательное перемещение предмета из «абсолютного места» в другое такое же место). И мы уже говорили, что Беркли отметил отсутствие какой бы то ни было практической ценности этих «математических гипотез» внутри ньютонова трактата: «Законы движений и действий и теоремы о их соотношениях и исчислениях таковых в соответствии с различными траекториями, а также в соответствии с различными ускорениями и направлениями, большим или меньшим сопротивлением среды – всё это устанавливается без учёта абсолютного движения» (26).
Ньютон, однако, разъясняя свой «опыт с ведром» («я сам это проделывал!»), всё же старается внушить людям саму возможность – до какой-то степени, так сказать, «прикоснуться» к абсолютному движению. Позже, в своих записях Эйнштейн оправдывал этот опыт и эти пояснения в том смысле, что Ньютон, мол, интуитивно понимал, что масса тел и геометрические характеристики расположения физических точек в пространстве не характеризуют полностью движения, есть ещё «нечто», что должно его характеризовать, и этим «нечто» Ньютон полагал абсолютное пространство; но уж фактическое-то наличие абсолютного движения этот опыт никак не доказывает, и для Беркли, как для человека, вполне удовлетворительно разбирающегося в вопросах современных ему физики и математики (если не сказать большее), не составило особого труда показать это (мы не станем здесь подробно останавливаться на его вполне убедительных аргументах «против» (27)).
Предположим, следовательно, что ньютоновы абсолютные пространство, время и движение и есть та самая координата «скрытое», образующая в перекрестье её с координатой «видимое» (т.е. доступное созерцанию: относительные пространство, время и движение) то «поле», в каковом и видел свою науку Ньютон. Но что тогда представляет собой это «поле»? «Движение» есть отношение, идея в уме, «сложная идея, которой не соответствует никаких впечатлений», но и «абсолютное движение» есть ничто иное, как «наиболее абстрактная идея», «математическая гипотеза», созданная воображением, – выходит, «поле», в котором обретала себя ньютонианская наука, располагается между идеями («простыми идеями» и «естественными отношениями») и идеями же (своего рода, «в высшей степени философскими отношениями»), то есть – в пределах «умственного мира» или «вселенной, созданной воображением».
Сам Ньютон о своей науке говорил так: «Главная обязанность натуральной философии – …выводить причины из действий до тех пор, пока мы не придём к самой первой причине, конечно не механической, и не только раскрывать механизм мира… Не становится ли ясным из явлений, что есть бестелесное существо, живое, разумное, всемогущее, которое в бесконечном пространстве, как бы в своём чувствилище, видит все вещи вблизи, прозревает их насквозь и понимает их вполне благодаря их непосредственной близости к нему?… И хотя всякий верный шаг на пути этой философии не приводит нас непосредственно к познаванию первой причины, однако он приближает нас к ней и поэтому должен высоко цениться» (28), – вот что он напишет в «Оптике», и в этом отрывке сказано так много, что мы разберём его «по частям».
Во-первых, из последнего предложения видно, что даже признаваемая фактическая недостижимость цели не мешает ей служить той самой моральной «координатой направления», организующей «поле», задаваемое точками отсчёта «видимое» и «скрытое».
Во-вторых, «бесконечное пространство, как бы чувствилище» – а это ясно из пояснений «прозревает насквозь», «непосредственная близость» – есть ничто иное, как воображаемое отношение же (бог, выходит, соотносит; это, между прочим, с точки зрения схоластики – ересь, и это характеризует Ньютона, пожалуй, как истинно человека Нового времени), можно бы сказать – «в высшей степени отношение», как бы «идея-связь в уме бога»; она измышлена по аналогии с мгновеннодействием и проницательностью человеческого ума (каким он представляется самому человеку, конечно), «не взирая» ни на какие расстояния и сроки давности, связывающего наблюдаемые и воображаемые явления: это, как уже отмечалось, и есть определяющая характеристика такого рода связи, умственной связи – «отношения». Ньютон, короче говоря, просто не представляет себе никакой связи иного рода, кроме отношения. Предупреждая возможное возражение, что, мол, он ведь говорит о «взаимодействии» тел, я здесь замечу, что именно – говорит, и не более того. «Взаимодействие» у него – лишь слово, посредством которого исподволь «протаскивается» предположение, что у сложной идеи смежности некоторых качеств, образованной в нашем уме и обозначаемой термином «тело», существует некий эквивалент и вне ума, который и вступает в связь с другим эквивалентом – другой идеи «тело». Но эта последняя связь вовсе не предполагается отличной от первой – связи идей; но идеи-то не взаимодействуют, идеи подлежат соотнесению – так мы называем специфическую активность духа, нацеленную на соединение идей по тем или иным правилам. Выражение «тела взаимодействуют» есть, следовательно, в буквальном смысле «материализация чувственных идей» – магическое действо. И уж тем более это понятно, если выразиться: «физические точки взаимодействуют», а это ведь лишь разные термины, разные слова – «тело» и «физическая точка», – смысл в них вкладывается одинаковый; не так ли?… Никакого другого рода связи не представляет себе и Юм, отчего и проводит параллель между многочисленностью и разнообразием «родов притяжения» – в «умственном мире» и «мире природы». Но если признать, что «отношение» есть свойственная человеческому уму связь (связь идей), то, во избежание разочарования в человеческих способностях к познанию, следует либо как Беркли отрицать всякую возможность связи другого рода (следовательно, отрицать и то, что могло бы связываться – другим образом), либо как Кант, не желая отрицать отличную от умственного Мира реальность и навязывая Природе тот род связи, что характерен для ума – «законы явлений в природе должны сообразовываться с рассудком и его формой», самому же себе и противоречить, поскольку чуть менее ста страницами ранее у него же сказано, что «вещи, которые мы созерцаем, сами по себе не таковы, как мы их созерцаем, и отношения их (курсив мой – Ю.П.) сами по себе не таковы, как они нам являются» (29), – но и здесь, как видим, «скрытые» «отношения между вещами» остаются – всё теми же «отношениями»; навязать, следовательно, и род связи, характеризующий деятельность духа, и правила, по которым дух образует Мир – о чём и будет следующий пункт.
Поскольку ньютонианская наука обнаруживает себя в координатах, не простирающихся за пределы идей-отношений («естественных», «философских» и, скажем, «наиболее философских»), то внутри этого «поля идей» находит своё место и метод, указанный Ньютоном – «выводить причины из действий до тех пор, пока мы не придём к самой первой причине», – ведь и причинность есть отношение, «сложная идея, которой не соответствует никаких впечатлений» и одно из многих обретённых в опыте, устоявшихся и привычных правил соединения идей. К якобы «скрытому» (на самом деле – измышленному, то есть идее же) ньютонианская наука устремляется по пути наиболее гармоничного соединения идей, по цепи возможно более изящного сплетения причинно-следственных связей, имея в виду, что «видимое», «чувственно созерцаемое» есть начальное (или конечное – с какой стороны посмотреть) звено в этой цепи. Изящность сопряжения, кстати, играет здесь определяющую роль – на это настоятельно указывал ещё Декарт в «Правилах для руководства ума», советуя даже, чтобы первоначально обучиться этому искусству, «наблюдать за работой ткача», за тем, как ловко сплетаются нити, – ум же наш обращается с идеями (как и подобает!) совершенно свободно, и можно привести множество примеров, в том числе – из философии, когда две идеи, одна из которых будет сначала полагаться за «причину», а другая – за её «следствие», совершенно запросто могут быть переставлены местами – в пользу большего изящества их сопряжения по этому же правилу. (Сам я, когда-то начиная размышлять над диссертацией, недоумевал по поводу распространённого предубеждения, что музыка, мол, «выражает чувства»; интересно, думал я, а попробовал бы кто-нибудь возразить, если я скажу – «музыка вызывает чувства» – что здесь «причина», и что «следствие»?…)
Что же стало после с ньютоновыми «идеями-математическими гипотезами» абсолютных пространства, времени и движения? Они, как известно, подверглись критике (из-за слова «абсолютное», надо полагать). Его «наиболее абстрактные идеи» были стыдливо заменены на другие «наиболее абстрактные идеи» – «однородное и изотропное пространство» и «однородное время», которые есть, конечно же, в точном смысле «философские отношения» (см. полное соответствие этих понятий характеристикам Юма и Беркли; а когда говорят, что их «характеризует симметрия», то что же это такое, как не «математическая гипотеза»?). Но такая «замена» оказалась весьма чревата тем, что эти «высшие абстракции», в отличие от ньютонова «пространства как сложной идеи в уме бога» и «первой причины», не могли уже выполнить функцию одной из координат (другая – «видимость»), определяющей «поле бытия» естествознания, и от физики постепенно стал ускользать сам смысл её – как науки, ориентированной в направлении поисков «скрытой реальности Природы» (от кого же, казалось бы, может быть «скрыта» однородность и изотропность пространства? – чуть напрягите воображение!). И вот уже – конец XIX-го века – профессор Филипп фон Жоли советует способному и любознательному студенту Максу Планку не заниматься теоретической физикой; советует из добрых побуждений, потому что, как ему представляется, в этой науке осталось лишь несколько малозначительных вопросов, которые вскорости уже будут решены, и интересных тем здесь не останется… Хорошо ещё, что внутри физики уже образовались и другие, помимо механики, дисциплины – например, электродинамика.
Оговорив далее некоторые весьма распространённые правила связи идей в уме, то есть некоторые известные отношения, которые нам далее понадобятся, мы и продолжим наши рассуждения, обратившись теперь к этой дисциплине естествознания.
V
Заострим внимание на двух взаимосвязанных и взаимозависимых сложных идеях, на двух отношениях, происходящих, естественно, из ума. Прежде, оговорим ту идею, посредством которой мы связываем, соотносим предметы (тоже, конечно, идеи): одно – как измеряемое, другое – как мерку, – отношение со-измерения. Можно было бы написать «отношение измерения», но ведь ясно, что всякое измерение всегда есть именно со-измерение – сопоставление чувственных объектов или абстрактных величин, одна из которых произвольно принимается за исходное – для осуществления такой процедуры соотнесения, другая является тем, что измеряется – в «единицах» первой (сама по себе, кстати, эта сложная идея как сугубо умственный предмет находит выражение, например, в точных науках в виде «коэффициента» (лат. coefficientis – содействующий), иногда иначе и называемого – «отношение»).
Понятно, что отношение со-измерения может проявиться – в соответствии с классификацией Юма – и как «естественное отношение», и как «философское». Мы можем, например, со-измерить толщину нити и игольного ушка, где эти два явления мы и свяжем качеством, допустим, «пройдёт» (таким словом мы можем обозначить то сопрягающее качество, которое продуцируется в этом случае нашим умом) или качеством «не пройдёт» (можно подобрать много примеров «естественного» проявления идеи со-измерения, но не будем на это отвлекаться). И, конечно же, со-измеряем мы как «естественным образом», так и – главным образом, и это нас интересует в большей степени – «при особом обстоятельстве, в связи с которым мы находим нужным сравнивать две идеи даже при их произвольном соединении в воображении»; то есть мы со-измеряем в научных целях – в целях познания Природы. В этом, по видимости, и состоит в самом общем смысле «метод» научного познания: сравнивание идей при их произвольном соединении, когда это «сравнивание» преимущественно приобретает более строгий и целенаправленный характер со-измерения – в результативности какового «метода» и сомневаются скептики.
Но сомнения эти можно понять, ибо где мы берём «мерки» – метр, секунда, килограмм (и производные от них «ньютон», «джоуль» и т.д.) – так сказать, «эталоны» в качестве одной стороны отношения со-измерения для сопоставления её с другой стороной, в целях измерения последней? Мы берём их в Мире, который сами же и образовали посредством отношений, связывающих чувственные идеи, или, как это называется у Юма, – не выходя за пределы своего же «кругозора – вселенной созданной воображением; и у нас нет идей, помимо тех, которые здесь порождены».
Кстати, а что собой представляет это самое «здесь» – мы то есть подошли к другому отношению, с которым всегда сопряжено отношение со-измерения: «где» мы реализуем идею со-измерения? Это «здесь» в естествознании, точнее, в механике принято называть «инерциальная система отсчёта»; со-измеряем мы – в инерциальных системах отсчёта.
Понятие инерциальной системы отсчёта включает в себя как минимум две сложные идеи, два отношения – «естественное отношение» и «философское». В качестве последнего здесь выступает наиболее абстрактная идея – «прямолинейное и равномерное движение» или «покой»; соответствие этим абстракциям чего-либо в реальности представляется весьма сомнительным. Поскольку же всякое со-измерение (всякое векторное со-измерение, уточним мы, поскольку наши рассуждения ограничиваются кинематикой) – намерен ли человек измерять расстояние, скорость ли, размеры, глубину или ещё что-то – предполагает точку отсчёта и направление, в котором или в связи с которым будет производиться со-измерение, другим отношением, обнаруживающим себя в качестве содержания понятия инерциальной системы отсчёта, будет отношение направлений. Данная сложная идея, не являясь «наиболее абстрактной идеей», может реализовываться в человеческом уме и в виде «естественного отношения», и в виде «философского» – здесь всё зависит как раз от того, что будет принято за точку отсчёта. «Естественным образом» человек принимает за точку отсчёта своё тело – об этом говорилось много раз, многими философами, в том числе и Беркли: «Необходимо отметить, что никакое движение нельзя постигнуть без некоторой определённости и направленности, что в свою очередь не может быть понято без того, чтобы представить одновременно существующими движущееся тело и или наше тело, или же какое-нибудь ещё другое. Ибо верх, низ, левое, правое и все стороны и направления основываются на некотором отношении…» (30). Но человек может и, во-первых, принять произвольную точку отсчёта направлений (не обязательно своё тело), а во-вторых, как это придумал Декарт («для минимизации возможных ухищрений», как остроумно судил об этом позже Пуанкаре), человек может ограничить бессчётное «естественное множество возможных ухищрений» – верх, низ, право, лево, зад, перед и т. д. – лишь обозначив три направления: оси абсцисс, ординат и аппликат – так получится «координатная система», что мы и могли бы уже определить как «философское отношение», производное от «естественного отношения». Как раз таким термином – заметим здесь, чуть забегая вперёд, – и оперирует в известной статье 1905-го года «К электродинамике движущихся тел» Эйнштейн, где нужно добавляя – «покоящаяся», причём – именно в кавычках.
Итак, резюмируя предыдущий абзац, мы заключим: «координатная система» есть отношение направлений – сложная идея и, следовательно, продукт связывающей активности духа, следующего привычному правилу сопряжения идей «верх», «низ», «право», «перед» и т.д., то есть «координатная система» есть одна из образующих Мир сложных идей, только с приданием ей некоторого «наукообразия». И второе: поскольку идея со-измерения необходимо связана с идеей соотнесения некоторого числа направлений, то и, намереваясь что-либо (безразлично: скорость ли, объём, упругость или что-то ещё) со-измерить – а у естествоиспытателя нет в распоряжении никакого другого «метода» познавания, – человек само собой и образует некоторую «координатную систему» или, выражаясь иначе, «инерциальную систему отсчёта»; то есть только лишь задумав что-либо со-измерить, он уже оказывается в своеобразном «плену» сложной идеи, порождённой активностью его духа, в плену созданного его воображением «Мирка», «маленькой Вселенной».
Всё. Что теперь внутри инерциальной системы отсчёта ни «наблюдал» бы естествоиспытатель, что с чем ни сопоставлял, ни со-измерял бы – тела, их движение, скорости, «действие-противодействие», – он оперирует исключительно идеями (которые, естественно, могут пребывать только в его уме), поскольку о чём бы ни думал, на что ни направлял бы он своё внимание, всё связано с идеей «инерциальная система отсчёта», а с идеей может связываться – посредством идеи же, посредством отношения – только идея. Предположим такую познавательную ситуацию: «расположившись», как в своё время Галилей или Ньютон, с целью экспериментального познания природы движения тел в инерциальной системе отсчёта – а она есть воплощённое отношение (правило связи идей, свойственное исключительно уму), – мы уже невольно и навязали Природе отношение как род связи, как основу всего, что нам предстоит наблюдать; заметим, мы ещё и начинали её познавать. И что же мы станем делать дальше? Мы станем измерять, то есть реализовывать, если позволить себе выразиться по-хайдеггеровски, «экзистенциал», посредством какового (в том числе) мы суть образуем Мир вокруг себя. Измерять мы станем с помощью разных приборов и разными способами – хронометрами, весами, метрами; мы будем со-относить данные показаний наших инструментов и приборов, потому что никакого другого «метода» познавания у нас нет и быть не может. Оформим результаты наших наблюдений мы в виде формул, которые – сами, любая из формул – всегда есть математическое выражение «естественного отношения» – отношения «равенства»; а данные в формулы будут заноситься одни «прямо пропорционально» (а «пропорция» – это что?) искомому, другие – «обратно пропорционально». И так далее… Какие «тайны Природы», какая «материя»? – всё с самого начала происходит в «умственном мире», созданном посредством отношения как проявления духовной активности, нацеленной на сопряжение идей.
Впрочем, этот «плен естественного отношения» – отношения направлений, обозначаемого в науке термином «инерциальная система отсчёта», уже и указан принципом относительности Галилея (само словосочетание «принцип относительности», впрочем, впервые появляется, кажется, как раз в статье Эйнштейна), который настоятельно напоминал философам-натуралистам Беркли: «Та как … мы не смогли бы узнать ни по какому признаку, находится ли некоторая совокупность вещей в покое или же она равномерно движется в некотором направлении, то уже из этого ясно, что и для любого тела нельзя постигнуть абсолютного движения» (31). То есть Ньютон-то утверждал, что есть особенная, «выделенная» система отсчёта – абсолютное пространство как «вместилище», но Беркли, возражая против всяких «математических гипотез», не хотел ничего об этом слышать и, фактически, отстаивал галилеевский принцип относительности, то есть – равноправие всех инерциальных систем отсчёта: «Например, камень, подтягиваемый канатом к лошади, продвигается по направлению к ней настолько же, насколько лошадь – по направлению к камню» (32), – но это же совершенно ясно, если помнить, что движение-то суть отношение, сложная идея в каждом отдельно взятом человеческом уме. Ну и к концу XIX-го века, как повествуют учебники, этот принцип (правда, не в столь бесхитростном, а лучше сказать – очевидном выражении, как у Беркли) и «утвердился окончательно в механике»…
Но сейчас, однако, самое время вернуться к нашей, с позволения сказать, гипотезе о координатах «видимое» и «скрытое», которые, как я ранее позволил себе предположить, определяют «поле смысла бытия» естествознания; вернуться, чтобы из этой перспективы попытаться дать ответ на вопрос: до каких пор возможен подобный самообман – когда естествоиспытателю, соотносящему идеи в уме и выводящему правила их привычного и гармоничного сопряжения, ничто не мешает думать при этом, что вся эта «механика идей» касается чего-то и вне ума? – А до тех пор, видимо, пока на месте координаты «скрытое» не окажется вместо какой-нибудь «наиболее абстрактной идеи» («материальная субстанция» ли, или «абсолютное движение») «скрытое» несколько иного рода: скрытая активность; и под «активностью», естественно, следует понимать самопроизвольную или, допустим, как мог бы выразиться Кант, «спонтанную» активность, но – отличную от активности духа (тоже самопроизвольной, что всем хорошо знакомо и давно известно).
То есть до тех пор, пока в сфере интересов естествоиспытателя не окажется такой объект, который не объяснялся бы, исходя из уже известной активности – активности духа, не объяснялся бы – из правил взаимного соотнесения как рода связи объектов-идей и проявления духовной активности. Причём, первое – активность – здесь является исходным и определяющим: есть специфическое проявление активности духа – отношение, которым сопрягаются идеи (оно, как бы сказать, для этого предназначено), но если существует другая порождающая активность, отличная от активности духа и проявляющая себя в связи другого рода, то она должна и сопрягать, связывать нечто отличное от идей.
(Экстраполяцию «вовне» известной человеку порождающей активности духа мы знаем ещё как «Нус» Анаксагора, и позже философия не представляла себе и не искала никакой другой порождающей активности, кроме той, что известна всякому человеку. Её просто ничто не подталкивало на такие поиски – философы, чувственность которых не «вооружена», не могли «видеть», не сталкивались с такими явлениями, которые возбудили бы вопрос. Лично мне известно только одно исключение – Фридрих Ницше, его теория «активного и реактивного». В этом, видимо, и состояла главная «промашка» Гиласа – будем считать его персонажем-обобщением всех материалистов, – поддавшегося на уговоры Филонуса, что «esse est percipi», и ничего не нашедшего возразить против отрицания чего бы то ни было внешнего духу: вопрос – есть «материальная субстанция», отличная от «мыслящей субстанции» или её нет? – этот вопрос перестаёт быть «вопросом», будь обнаружена активность, отличная от активности духа; а точнее, проявление другой активности, отличное от проявления активности духа – отношения. Потому что открывается ведь нам не сама «активность-дух», но лишь её, так сказать, результирующий эффект в виде Мира как целостности, Мира как со-отнесения идей и впечатлений; Мира оригинального – в каждом отдельно взятом уме и ошибочно называемого нами «наш мир» в силу того, что формируемые нами Миры похожи, а похожи они потому, что у нас похоже устроены тела, то есть чувственность.)
И вот в качестве такой «скрытой активности» в своё время и обнаружились электромагнитные волны. Вернее, сначала они ещё не были распознаны как именно активность, а только как «невидимый объект» и гипотеза. Почему сначала не были, а потом стали? Сейчас мы это постараемся прояснить.
Электромагнитные волны мы не можем «созерцать» (в точном смысле этого понятия, предполагающем «чувственность»). Мы не можем созерцать свет – так называемый «видимый» сегмент частот электромагнитных колебаний; мы можем созерцать нечто, но как результат того, что свет есть; всё, что мы видим, мы видим благодаря этому, сам же свет не есть «явление» нашего Мира («мира феноменов», как выразился бы Кант), он – невидим. Мы можем также, допустим, с помощью гальванометра зафиксировать (то есть «созерцать» в общем смысле, «расширив круг созерцаемых явлений») такое явление, как «электрический ток», но для созерцания остаётся недосягаемой та активность – электромагнитное поле, – которая породила это явление.
Но уже тогда, когда Фарадей смело предположил – по аналогии с расходящимися по воде кругами, – что электромагнитная индукция распространяется волнами, уже тогда он, не задумываясь, впрочем, об этом, почти наметил путь в направлении именно «скрытой самопроизвольной активности» как объекта и интереса, и морального устремления естествоиспытателя. Почему «почти»? Потому что он ещё думал, что эти волны имеют механическую природу, он думал, что они распространяются в среде – ньютоновом «эфире» (ещё одна «математическая гипотеза» и «наиболее абстрактная идея»), вот что продолжало до времени занимать место координаты «скрытое» в электродинамике (в механике, как помним, ничего «скрытого» к тому времени уже не предполагалось). Точно так же думал и Максвелл. Но ровно до тех пор, пока человек предполагает светоносную среду, «эфир» – а он предполагается в качестве «покоя», относительно которого «движется» волна, а само возникновение какой-либо волны в какой-то среде невольно (где-то, так сказать, «в подтексте») предполагает наличие некоторого внешнего этой волне импульса как «деятельной причины» возбуждения среды (не правда ли, уже знакомое нам «ложное удвоение»?), – он невольно и продолжает учитывать, строить умозаключения, исходя из одной активности: отношения как проявления активности духа. Здесь весьма примечательно ещё то, что «эфир» оказался, так сказать, «внутри» электродинамической теории Максвелла столь же «бесполезной наиболее абстрактной идеей», как и другие «абстрактные идеи», на «вредности» которых давно настаивал Беркли. Максвелл сам указывал на это читателям своей книги, написав, что «механическую модель» электромагнитного поля, в которой и фигурировал «эфир» как среда, следует рассматривать лишь как иллюстрацию, вспомогательное разъяснение. Практический же результат теории – «уравнение Максвелла» – никак не вытекает из этой «иллюстрации», что и отметил позже Герц, сказав, что «главное в теории Максвелла – уравнение Максвелла» (то есть – заметим мы уже от себя – очередное правило соединения идей в уме).
Однако же, такое своеобразное «нежелание» заметить другую активность (помимо активности духа) неизбежно как раз и влечёт за собой некоторые противоречия внутри электродинамической теории: учёные всё-таки имели же дело (ничего то есть в этом смысле не измышляли) с результирующим эффектом проявления этой активности – «электрическим током». С указания на таковую «асимметрию» и начинает статью «К электродинамике…» Эйнштейн, напоминая опыт Фарадея, когда ток одной и той же величины и того же самого направления возникает в проводнике вне зависимости от того, что относительно чего движется, а что покоится: проводник движется, а магнит покоится, или магнит движется, а проводник покоится – тот же ток возникает, будучи «вызван» лишь самим фактом относительного движения (при условии, что их движение относительно друг друга – а представления о каком-то другом движении, кроме относительного, у людей и нет – тождественное; ну, как в примере «лошади и камня, к ней подтаскиваемого» – у Беркли). С традиционной, принятой тогда в электродинамике точки зрения, как и отметил Эйнштейн, эти два случая следовало бы рассматривать строго отдельно, но это бессмысленно, потому что в обоих случаях – один и тот же результат. Итак, что получается? Если мы проигнорируем «эфир» как выделенную систему отсчёта, забудем вдруг про него, то мы и должны будем признать, «заметить» то, что кроме поступательного перемещения двух тел относительно друг друга, которое в том и другом случае тождественно (то есть, собственно говоря, кроме одной и той же идеи, порождаемой духом, – «движение»), происходит же, совершается ещё нечто, наряду с самим фактом движения (то есть – вместе с этой, порождённой умом «сложной идеей» и независимо от неё), от чего и возникает ток. Если же мы вспоминаем про «эфир», вводим эту идею в общую «механику» соотнесения идей, то мы уже невольно и отказываемся «замечать», что «там» нечто само по себе, спонтанно совершается, но напротив должны думать, что ток возник вследствие движения тел в этой среде, из-за какового движения в ней и происходит возбуждение; то есть мы, так сказать, «автоматически» начинаем привычный процесс соединения идей в уме при помощи привычного принципа их соединения – «причинность». Но тут-то мы и промахиваемся, потому что от такого объяснения, исходящего из «признания» только одного рода активности, выражающейся в сопряжении идей и в последовательном суммировании этих сопряжений, ускользает этот самый ток одной и той же величины и того же направления – «на выходе», так сказать, обоих случаев: при таком ходе истолкования наблюдаемых явлений (основанном на «механике идей»), и ток должен бы в разных случаях «суммироваться» какой-нибудь разный, допустим, разного направления.
Так что же «там» такое происходит, спонтанно совершается, кроме тождественного в обоих случаях движения, которое есть ничто иное, как отношение, сложная идея, «совершающаяся» – в это же самое время – в уме? А ничего особенного не происходит: проводник и магнит – в это же самое время – взаимодействуют. Это такой другой род связи, проявление другой, «скрытой» спонтанной волновой активности; род связи, отличный от отношения как проявления активности духа. «Отношение делает Мир», в то время как «взаимодействие делает Природу».
И Природа здесь, заметим, совсем не то «истинное бытие» или «истинный мир», который мог бы быть «спрятан» под «ложным миром видимости»: есть, мол, вещь как она есть сама по себе, а есть – как она уже нам представлена при посредстве чувств; но «вещь» – это идея, а место любых и всяких идей – в уме. Против таковой, прямиком ведущей к унынию скепсиса – поскольку «чувства лгут! они доставляют нам не те сведения!» – измышленной пропозиции настойчиво и выступал Беркли (а как против неё позже выступал Ницше!). Наши чувства вообще не могут доставлять нам никаких сведений об этих «скрытых взаимодействиях Природы» и, соответственно, никак, совсем никак не могут нам лгать. Наши чувства не есть орудия познания Природы, они – орудия для образования Мира… Но к этому мы вернёмся ближе к концу изложения.
Словом, поскольку всё указывает на то, что мы имеем дело с новой для нас «порождающей волновой активностью», обнаруживающейся «за пределами» нашего Мира, созданного активностью нашего духа и созерцаемого как «естественным образом», так и «расширенным» – с помощью, в данном случае, гальванометра, то для того, чтобы познавать эту активность, их – две независимые порождающие активности – надо бы как-нибудь согласовать; придумать – как их согласовать (перед этим, понятно, их и следовало строго различить, ибо «согласованным» может быть лишь то, что непременно в то же время «различаемо»).
Вот тут-то и вырисовывается, так сказать, «проблема познания другой активности»: познание есть интеллектуальный акт, в конечном счёте сводящийся к соединению идей, изобретению принципов их соединения; первичное же «внутриумственное» действие, с которого и начинается процесс познавания и которое было когда-то и кем-то изобретено – со-измерение. Следовательно, для того, чтобы начать познавать эту «скрытую» волновую активность, нужно подступиться – её как-то измерять (измерять не электрический ток – это лишь доступный нашему «вооружённому» созерцанию результат проявления этой активности; измерять подступиться нужно то «скрытое волновое взаимодействие», которое этот ток порождает). Итак, у людей нет другого «метода» познавания, кроме со-измерения, а это есть отношение, то есть операция, присущая исключительно «умственному миру», распространяющая свою связывающую функцию лишь в его пределах. Мало того, начни лишь человек нечто со-измерять, он тут же и образует себе «плен» (а точнее, – назови мы это, конечно, «пленом» – человек всегда в нём пребывает, принимаясь же со-измерять, он его лишь «наукообразует») другого отношения – «координатная система» или «инерциальная система отсчёта» и, следовательно, ничем другим, кроме идей, оперировать не может; а взаимодействия – это другая реальность, в основании которой – другая активность, её порождающая.
Что можно придумать, чтобы вырваться из этого «плена-себя»?
VI
Возможность здесь может быть такая: нужно придумать как-нибудь со-измерять, но не относительной «меркой»; не такой «меркой», какими мы со-измеряем в Мире и какие, естественно, сами есть продукты активности духа, производные от внутримирских отношений идей или «вещей», которые, собственно говоря, есть тоже «сложные идеи» («килограмм», например, как раз такая величина-идея, как и «метр», лишь до недавнего времени бывший и вовсе – «вещью», как и «секунда»). Короче говоря, со-измеряя и оставаясь, таким образом, «в» инерциальных системах отсчёта (всегда имея их в виду, значит, раз уже иного не дано), нужно «изготовить» мерку из «материала» внемирского происхождения, из «материала» той – «спонтанно-волновой реальности». На роль такого «материала» – а мерка, «изготовленная» из него, во всяком случае, уже будет заключать в себе какое-то свойство, какую-то характеристику «скрытых» волновых взаимодействий – вполне подходит луч света, который сам – волна.
Волны, надо заметить – как электромагнитные, так и механические, – вообще склонны проявлять, так сказать, «несанкционированную активность». Начиная ровно с мгновения их возникновения, они существуют, распространяются, так сказать, «ведут себя» по собственным «правилам», не зависимым от динамических характеристик сил, их возбуждающих. Всё, что им нужно – только сам факт импульса, лишь мотивирующего их возникновение; дальше они – «сами по себе», что называется (ну, это известно ещё из давнишнего и, пожалуй, особо показательного в этом смысле примера «верховой погони» за «волной-солитоном»). В связи с этим, следующий простой пример.
Если мы, дотянувшись с борта покоящейся лодки, хлопнем рукой по водной глади озера, то круги по воде будут расходиться с определённой и во всех направлениях равной скоростью; если же мы проделаем в точности то же самое, но с лодки, которая по той же глади движется, то скорость расходящихся от шлепка кругов во всех направлениях будет той же самой, что и в первом случае, и их центр, естественно, останется на месте, позади уплывающей лодки. Волне, как бы сказать, «нет никакого дела» до движений инерциальных систем и, вместе с этими системами, их (волн) возбудителей. И далее. Если мы, в качестве уже наблюдателей с берега, захотим измерить относительно нас скорость – во всех направлениях – расходящихся кругов, возникших от хлопка по, допустим, водной глади бассейна на движущемся по озеру пароходе, то мы, конечно, чтобы получить скорость этих волн относительно нас как наблюдателей, должны будем к скорости распространяющихся кругов в сторону носа парохода прибавить скорость самого парохода, а от скорости волн, движущихся в сторону кормы – отнять ту же скорость. Но нетрудно понять, что скорость парохода, отнимаемая-прибавляемая нами якобы к скорости распространения волны в обоих направлениях, никак не связана с движением самой волны в бассейне (вернее, движение волны никак не связано с движением парохода), а она (скорость парохода) связана со средой (водой бассейна), в которой эта волна распространяется и которую пароход-инерциальная-система «везёт» относительно нас.
Но в том и дело, что «неудачный» эксперимент Майкельсона-Морли по обнаружению светоносной среды показал отсутствие такой среды; световая волна, оказалось, распространяется не в среде, а – сама по себе распространяется. Во-первых, нет среды, следовательно, не предполагается ничего, что эту среду возбуждало бы. Но и, во вторых, никакой среды, значит, которую любая инерциальная система могла бы «везти» с собой относительно стороннего наблюдателя – что и заставило бы этого наблюдателя отнимать-прибавлять к скорости луча света скорость самой системы, с которой эта среда перемещалась бы относительно его, – нет среды и в этом качестве: отнимать-прибавлять к скорости луча света нечего. Скорость света, следовательно, – вернее говоря, «скорость» есть относительная мера и идея, но, поскольку мы не можем ничем другим в уме оперировать, мы и называем то, с чем имеем дело в данном случае, словом «скорость», – скорость света оказывается безотносительной. Если же к этой «свободе» луча света от пут инерциальных систем отсчёта присовокупить ещё и то его свойство, что скорость его перемещения (назови мы это «перемещением» – что есть всё-таки отношение) имеет предел в 300000 км/с (а именно в силу его «свободы» от перемещения координатных систем она, естественно, и оказывается постоянной во всех направлениях, поскольку и «направление» есть отношение – умственная связь идей), то мы и получим отражённую в этом «материале», из которого следует сделать мерку в качестве стороны со-измерения, характеристику «скрытых» спонтанно-волновых взаимодействий: они, в отличие от мгновенности отношений как свойственного нашему Миру рода связи, не мгновенны; скорость «взаимодействий, делающих Природу» (то есть если мы это называем «скоростью» – а по другому мы это называть не можем) не превышает указанный предел.
Итак, свойства этого «материала», отражающие характер проявлений «скрытой» спонтанной волновой активности, теперь приобрели вид идей в качестве «скорости (предельной)» и «перемещения (независимого)», и остаётся эти характеристики окончательно оформить в цельную «идею-мерку». Для этого нужно противоестественно (с точки зрения Мира, созданного активностью духа, конечно; с точки зрения привычных правил соединения идей) соединить сложную идею «пространство» (то есть «перемещение») со сложной идеей «время» (то есть «скорость»). Сама по себе связь идей пространства и времени для нашего ума вполне привычна, они почти всегда как раз и связаны, и именно – идеей движения; противоестественным же является то, что её – эту всегдашнюю связь – следует считать именно не связью, считать чем-то неразрывным, чем-то «одним»: «пространственно-временной интервал» (это, собственно говоря, и есть луч света, но как летящий с известной и неизменной скоростью некоторый промежуток времени сквозь некоторый заданный кусок пространства).
Такая противоестественная «замороженность» двух идей (или, быть может, «сплав» – «пространство-время») в этой теперь уже окончательно готовой мерке и придаёт ей то свойство, которое называют «инвариантность»: поскольку это есть идея (изобретённая «спайка» идей), имеется возможность оперировать ей в уме – соединять с идеями «тело», «расстояние» и т.д.; поскольку же эта мерка (как раз в силу противоестественности «спайки») включает в себя, учитывает независимый от «умственного мира координатных систем» характер проявления «скрытой», «делающей Природу» волновой связывающей активности, её можно перемещать от одной координатной системы к другой – как «идею-агента»: в микромир, допустим, и обратно – в Мир того, кто с этой «идеей-меркой» оперирует в уме, – и всегда он (оператор) может быть уверен, что везде все процессы связей (взаимодействий) промерялись той же самой, безотносительной меркой, «показаниям» которой и следует верить – по её «возвращению». Что же прежде всего нужно промерять? Прежде всего – расстояния и время процессов «там» (вернее, то, что можно было бы назвать «расстояния там» и «время там»).
Без «времени», без этой сложной идеи, представляющей собой, в свою очередь, отношение сложных же идей «теперь», «перед» и «после», мы не можем обходиться в той же мере, как и без отношения направлений («перед» и «после» есть, в определённом смысле, подобие идей «верх», «низ», «право», «лево» и т.д., а «теперь» – это точка отсчёта, в некотором смысле, эквивалентная телу как универсальной точке «пересечения координат» направлений – «точка зрения, по отношению к которой невозможно занять точку зрения», – как сказал об этом Жан-Поль Сартр; мгновение «теперь» мы всегда, кстати, и «теряем» точно так же, как и тело – «тело», понимаемое, конечно, не как физиологический объект, а как «пять чувств» – экзистенциально понимаемое, то тело, которое «индивидуализирует душу», как говорил Платон, «тело», которое никогда не может стать «объектом», поскольку невозможно полагать то, чем являешься сам, имея в виду под «сам» – дух, образующий Мир); без идеи времени, вообще говоря, всё попросту теряет смысл в Мире человеческой реальности, в «умственном мире». Приоритетным же в этом, своего рода, «отношении отношений» – «время» – следует, видимо, считать отношение «теперь» или, что то же самое, отношение одновременности, производным от которого – отношение «перед-после» или, если иначе, отношение последовательности (некоторые философы, правда, придерживаются того мнения, что приоритетным в человеческом бытии следует считать «будущее», то есть «после», но это отдельный разговор; Эйнштейну, во всяком случае, тоже казалось, что отношение одновременности – определяющее). «Одновременно», таким образом, необходимая идея в деле образования «умственного мира»; но это ведь именно – отношение.
В отличие же от Мира, где связи носят мгновенный характер (в уме идеи сообщаются свободно и мгновенно, а Мир образуется умом; умы же, в свою очередь, только и бывают – «отдельно взятые» умы), в Природе, где связи иного рода – взаимодействия, нет, следовательно, никакого «одновременно» и нет, значит, никакого «времени». Однако, как было уже сказано, поскольку без идеи времени и, следовательно, без идеи одновременности в нашем, в «умственном мире» вообще невозможно никакое смыслообразование, то в деле возможного «путешествия» (из Мира) в реальность, в которой нет отношения как рода связи, должна присутствовать некоторая идея «условно-одновременности» – вместо идеи «одновременно», чтобы иметь возможность поставить в отношение с этим «условно-теперь» – «условно-как долго?».
И вот, поскольку мерка «пространственно-временной интервал» (как, впрочем, и взаимодействия, для промера которых эта мерка и предназначена) суть длящийся процесс (летящий луч света), это самое «условно-одновременно» для двух событий, располагающихся, так сказать, «на двух концах» мерки, можно зафиксировать только для «наблюдателя», то есть для «места», поместив его строго фиксировано – где для него два источника света по концам мерки действительно одновременно (во внутримирском смысле) мигают; это место необязательно должно быть в середине мерки, главное, чтобы оно оставалось неизменным – относительно неё. Зафиксировав же «условно-одновременно» для этой мерки из этого места, «наблюдатель» должен при ней всегда как бы и находиться (как бы в том же самом месте «привязан» быть, так сказать, к ней; он же, кстати, должен «там», при ней, всякий раз и «координатную систему» как отношение направлений образовывать) в «путешествиях» мерки для промеров длительности процессов, допустим, в микромир и обратно – в наш Мир, и нам, так сказать, «докладывать» результаты промера, причём непременно в «единицах» этой мерки «пространственно-временной интервал» (для чего она, собственно, и нужна была):
– Сколько это длилось? – как бы спрашиваем мы «наблюдателя».
– Столько, за сколько луч света пролетел бы 1000000 км, – как бы отвечает он нам.
– Как, три с лишним секунды? – удивляемся мы, «переведя» это в наши относительные внутримирские величины. – Прошла только одна секунда!…
– Ничего не знаю. Состою при мерке – про неё и докладываю…
Вообще-то говоря, «наблюдатель» такой был всегда; в ньютонианской науке он тоже присутствовал, только не был столь заметной и важной фигурой – им и был сам экспериментатор. Но себя он, разумеется, не замечал, потому что весь его эксперимент ограничивался одной – им же образованной «координатной системой», внутри этого «умственного мирка» он и сопрягал «внутримирские» идеи: сам этот Мир создаёт – сам его и наблюдает. Теперь же «наблюдатель» в физике – очень важный «субъект», которому и следует верить. А «показаниям» наших чувств, которые (показания) мы привыкли соединять в уме только по такому-то правилу, а не по иному, как раз верить не надо (они не для того вообще предназначены, чтобы им верили или не верили).
Поскольку же эта «гибридная мерка» предназначена не для промеров в созданном активностью нашего духа Мире идей (как раз – с помощью чувств созданном), а для промеров за его пределами, в Природе, создаваемой другой, отличной от активности духа активностью, однако же сама операция со-измерения, сопоставления этой мерки с чем-либо будет производиться нами «здесь», в Мире (мы-то никуда не можем из него «выпрыгнуть»), то результаты этого со-измерения будут казаться несколько странными («непривычными уму», собственно говоря). Если мы «привыкли», допустим, к тому, что твёрдое тело имеет те же самые размеры – хоть оно движется, хоть стоит на месте, а «инвариантный пространственно-временной интервал» нам указывает, что, разгони мы это тело до скорости 300000 км/с, оно в направлении движения вообще не будет иметь никакой протяжённости, – не стоит этому особенно удивляться: так оно и есть, вернее, так оно и выглядит в человеческой относительной реальности, когда с непременно и всегда относительными и нам привычными её параметрами соотносятся «показания» безотносительной «мерки». И есть ли тут вообще чему удивляться? Нечему. Нужно только помнить, что «твёрдое тело», «протяжённость», «расстояние», «движение» – это сложные идеи (от идей ведь – так их видоизменяй или эдак искази, что называется, «не убудет, не прибудет»), это есть привычные соединения идей не где-нибудь, а в человеческом уме, в «умственном мире» (подр. см. об этом в «Опыте новой теории зрения» Дж. Беркли). А специальная «мерка» и была изобретена для того, чтобы доставить нам в этот «мир идей и впечатлений» достоверные сведения «с воли»; для того, чтобы согласовать, различая, две разные спонтанные активности, проявляющие себя как «связь-отношение» и «связь-взаимодействие» – согласовывать Мир и Природу.
И что всё это означает, если посмотреть из перспективы естествознания (я позволю себе высказать некоторое короткое заключение этой направленности, чтобы после уже перейти к тем выводам, ради которых и сочинялся данный трактат)?
Быть может, помимо самопроизвольных порождающих активностей – духа и электромагнитно-волновой (то есть мы её, конечно же, называем «волновой», ибо «у нас нет идей, помимо тех, которые здесь порождены») есть и ещё какая-нибудь спонтанная активность (да, наверняка есть, ведь образует же какая-то активность шаровые молнии, и учёные до сих пор не знают какая; словом, физика, видимо, ещё в самом начале своего пути). Но уже того, что ей удалось «заметить», различить другую порождающую активность, по сути – различить, наконец, Природу как отличную от Мира реальность, достаточно для заключения в том смысле, что её, во всяком случае, моральные амбиции теперь можно было выразить уравнением:
Мир (отношения) + Природа (взаимодействия) = Универсум (всё, что есть).
Заключение
В начале данного трактата мы условились непременно вернуться к наиболее «неудобному» – из тех вариантов, которые перечисляет Юм, оговаривая, что цель его трактата не предполагает необходимости определиться с выбором какого-либо из них – варианту предположительного происхождения качеств, а именно, что качества есть продукт «творчества» нашего духа. Такая гипотеза, фактически являющаяся своеобразным усугублением до агностицизма (кажущегося) одного из основоположений античных скептиков («скептицизм» – это ещё ведь не «агностицизм») о взаимной относительности данных нам качеств – усугублением, поскольку в таком случае качества не просто даны нам во взаимных отношениях, на что обращали внимание скептики, но они и вовсе взаимоопределяют друг друга как предметы «чувственно-умственного мира», как результат взаимной игры в замкнутых пределах духа – такая гипотеза упоминалась нами и в связи с затруднениями Канта.
Собственно говоря, авторство этой гипотезы происхождения качеств и принадлежит Канту, но она фигурирует только в первом издании «Критики…» и позже была им отвергнута – по причине того, видимо, что из неё он сделал ошибочный и единственно возможный по тем временам вывод (тогда ведь ещё не было Эйнштейна). Теперь же мы можем запросто, без оглядки на то, что из этого якобы последует вывод о неспособности человека к познанию внешней по отношению к его духовному миру реальности, принять эту гипотезу: качества есть продукт активности духа, их порождающей; качества есть наше «творчество». Мы даже должны её принять, чтобы безо всякого излишнего ажиотажа усваивались так называемые «парадоксы теории относительности», поскольку из неё непосредственно и вытекает, что «длинно» или «коротко», «быстро» или «медленно», «протяженное и твёрдое тело», «движение» и т.д. – это всё порождаемые нашим духом качества и связываемые его же «творческой» активностью – в соответствии с приобретённым «игровым опытом» духа – совокупности этих качеств. Специальная теория относительности, словом, это такое своеобразное подтверждение солипсизма (если его после этого можно назвать «солипсизмом»).
Кстати сказать, Беркли-то как раз и не может позволить себе занять эту точку зрения в отношении происхождения качеств («идей»). Его Филонус прямо говорит Гиласу (а тот, естественно, ему и не возражает), что, мол, конечно, требуется воля, чтобы открыть глаза, но мы же не можем отсюда сказать, что для созерцания нами многих качеств требуется наша воля, но что, дескать, как только мы уже глаза открыли, дальше мы остаёмся совершенно пассивны, и в ум наш многообразие качеств само по себе, как бы сказать, «поступает через глаза» – помимо нашей воли. Поводом к этому – видимо, свойственные Беркли религиозные соображения: прими он эту гипотезу, из неё ведь и последует вывод о том, что «воспринимаемый» каждым отдельным человеком Мир с самого начала создаётся «усилием воли» (это, кстати, «ложное удвоение одного явления», но мы не можем иначе выражаться) каждого отдельного человека; созерцаемый нами Мир оказывается продуктом нашего же произвола (или Свободы; как кому понравится назвать), тогда как – известно чьей волей должен быть создан Мир, – как этого хотелось бы Беркли. Я где-то читал, что в физике существует, как это называют, «принцип преемственности»: всякая последующая физическая теория в своём предельном выражении «переходит» в предшествующую ей теорию (СТО, например, оборачивается механикой Ньютона – при скорости света, устремляющейся в бесконечность; в этот принцип, правда, не вписывается «постоянная Планка»). Забавно, но он может быть применён и к философии. Философия Ницше, в своём «предельном выражении» – Сверхчеловек, «переходит» в философию Беркли, у которого все воспринимаемые нами качества, в конечном счёте, продукт «творческого воспринимания» бога.
Но, возвращаясь всё же к Иммануилу Канту, мы скажем так: он, как позже выяснилось, что называется, «дул на воду». Созерцание, «чувственный опыт» не есть познание, и познание с него не начинается; созерцание качественного многообразия Мира – это взаимоопределяющая игра чувств и отдельных чувственных данных, собственно говоря, и образующая этот Мир как – если выразить это, чуть переиначивая терминологию Юма – «очень сложную идею». Всякая же игра, в свою очередь, происходит по правилам (например, по правилу «причина-следствие»), точнее, «правила» и есть то, что делает игру – «игрой». Набор этих правил «игры телом» ограничен, по видимости, устройством самого тела, физиологическими возможностями «сенсоров» (к их числу нужно причислить и костно-мышечный аппарат, и, видимо, ритмически пульсирующее сердце, – «организм», словом), контактирующих с другой («другой» – по отношению к духу) реальностью (и в её рамках), и различением на физиологическом уровне самих этих контактов и их смешений на «приятное» и «неприятное». Но именно одна активность – неделимый дух – порождает, соотнося меж собой результаты контактов «сенсоров» с другой, внешней реальностью, многие качества – и здесь Беркли был, несомненно, прав, что вне духа нет качеств, и их «esse est percipi» – одновременно же «закрепляя» принцип этого соотнесения как «привычное правило», – и здесь был прав Юм. Кант же, в свою очередь, замечательно сообразил, что порождающая многие качества активность духа проявляется в виде «формального условия чувственности как способа, каким человек подвергается внешним воздействиям» (здесь, правда, важнее сама идея, а не её Кантом «наполнение»); а Юм, в связи с этим же, как раз не сообразил, что то, что он назвал «естественное отношение» как «качество, каким соединяются впечатления ума», есть именно прождающая эти самые «впечатления ума» активность духа (этот механизм «качествообразования», в целом, был рассмотрен мной ранее, на примере образования форм музыки, собственно говоря – образования музыки; история же последней, кстати, и учит нас тому, что «привычки ума» не вечны, они могут и меняться…). Словом, как говориться, «все хороши»; но некоторые – «хороши особенно»!
Есть же, как оказывается, та духовная область, где правила игры могут произвольно, свободно меняться – своего рода, «другой порядок» Свободы. Это – игра между чувственностью и интеллектом, когда тело (пять чувств, со всеми их данными) выступают уже одной «командой». Интеллект же и усиливает своего соперника, добавляет противной команде «дополнительных игроков» и «мастерства» (в виде приборов и устройств для наблюдения), но он же и придумывает новые правила (допустим, считать пространство и время – одним «пространство-временем») – это не совсем, значит, «честная игра». Цель же здесь, естественно, одна: обыграть соперника. Познавать, таким образом, возможно, вовсе не значит «расширять чувственный опыт», как думал вслед за Юмом Кант, но – преодолеть, превзойти его. «Человек есть то, что должно превзойти!» – вспоминается пророческое восклицание одного мудреца. Быть может, Эйнштейн в какой-то мере и воплотил этот призыв – его интеллект (здесь, видимо, не обошлось без помощи интуиции) превзошёл чувственность, обыграл тело.
Примечания
1. Рассел Б. История западной философии. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002, с. 745
2. там же, с. 750
3. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Сочинения. В 2 т. – М., 1965., Т. 1, с. 179
4. там же, с. 101
5. там же, с. 163
6. Кант И. Критика чистого разума. – М.: «Мысль», 1994, с. 500
7. там же, с. 107
8. там же, с. 116
9. Беркли Д. Сочинения. – М.: «Мысль», 2000, с. 90
10. там же, с. 206
11. там же, с. 102
12. Юм Д. Трактат о человеческой природе, или Попытка применить основанный на опыте метод рассуждения к моральным предметам // Сочинения. В 2 т. – М., 1965., Т. 1, с. 102
13. Беркли Д. Сочинения. – М.: «Мысль», 2000, с. 25
14. там же, с. 187-188
15. там же, с. 188
16. там же, с. 189, 190-191
17. там же, с. 331
18. там же, с. 342
19. там же, с. 331
20. там же, с. 336
21. там же, с. 338-339
22. там же, с. 350-351
23. там же, с. 351
24. там же, с. 350
25. там же, с. 185
26. там же, с. 350
27. см. там же, с. 348-349
28. Ньютон И. Оптика – М.: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1954, с. 280-281
29. Кант И. Критика чистого разума. – М.: «Мысль», 1994, с. 61
30. Беркли Д. Сочинения. – М.: «Мысль», 2000, с. 347
31. там же, с. 350
32. там же, с. 352